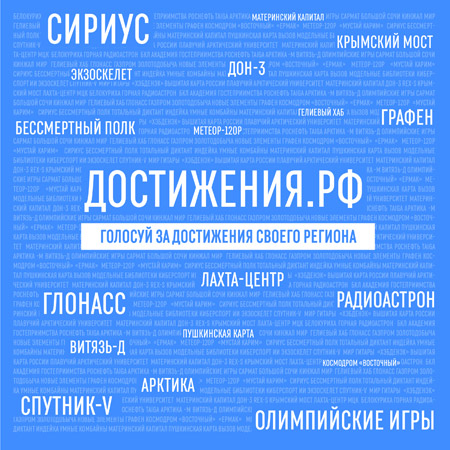Салют берез твоих (рассказ односельчанина)
– Отец, тебе немало лет, давно живешь… Жизнь, наверное, показалась о-очень длинной?
– Длинной?! Хм, длинной… А вот послушай меня.
Как-то мы с братом моим старшим, – дядю Шамиля ты не мог видеть, он с войны не вернулся, – отправились, значит, мы с Шомкой ловить зайчат в поле на стерне. Стерня, если помнишь, – это то, что остается от пшеницы или ржи после укоса, уборки то есть. Так вот, в копнах соломы много зайчат обычно пряталось. То ли эти зайчата были поздние, не успевали вырасти за лето, то ли какой-то особой породы – ну совсем мелкие еще, бегали не очень быстро, и поймать их можно было голыми руками, потревожив для начала, разворошив соломенную копну. И вот я первый увидел зайчонка, – метнулся за ним, а ноги-то, само собой, босые – уколол пятку, да так больно, о срезанный косою стебель какого-то крепкого, твердого сорняка. Он, стебель-то, и срезан ведь, как на грех, под углом, будто ровно для того, чтоб острее был… Ну вот, сижу это я, ногу-то обхватил руками, от слез удержаться не могу, а Шомпай, гад такой, Шомпай за моим зайчонком, как борзая собака, – и поймал же, везунчик… А солнышко августовское, ласковое – так-то греет, милое, а брат радостный, веселый такой, тюбетейка набекрень, прижал к груди зайчонка, я его таким веселым больше и не видел, – таким и запомнится, – через зиму только и начнется война. А зайчонок пригрелся на груди у братки, уснул, что ли – не шелохнется, или за мамку Шамиля принял – своей-то мамки он, бедняга, и не видел, поди, – говорят, зайчихи зайчат-то не различают, кормят всех, кто прибежит и присосется, – вот ведь как мудро у зверей устроено – на своих и чужих не разделяют.
А ведь я первый зайчонка увидел – стало быть, моя должна быть добыча! Уж, почитай, шестьдесят годков минуло, как братку Шамиля на фронте убило, – а вот, как вспомню того зайчонка – до слез опять обидно и нога уколотая болит – спасу нет! А ты говоришь – длинная жизнь… Какое там!
...Яма быстро, на глазах углубляется – землекопов-то много, лопаты часто переходят из рук в руки. Много нас собралось здесь сегодня – здесь и пожилые уже внуки, и еще молодые племянники, дядья, сваты, свояки, шурины и прочие родственники, многие из которых и видят-то друг друга едва ли не впервые… Да и разбирался досконально в сложной родственной иерархии только, пожалуй, отец. Группками тут и там стоят меж могилками родственники многочисленные, неспешные тихие льются разговоры-воспоминания, которые все лишь он один и скрепляет безмолвно. Причудливо переплетаются тихие эти разговоры с моими мыслями, как наяву слышу недавние долгие наши беседы зимними вечерами.
– Да-а, только вот на похоронах все вместе и собираемся… Что тут сделаешь – жизнь…
– Он с войны-то пришел израненный, не совсем еще поправился, – вступает дядя мой по материнской линии, благообразный, с бородкой, замолкает ненадолго, словно вглядываясь мысленно в те далекие дни. – А ребятишек – вас вот – кормить надо. На сенокос к нам в деревню приезжал, к отцу моему, у нас угодий поболее, просторней в далекой деревушке нашей. Да и луга хорошие, заливные. А у него в совзозе-то, почитай, все распахано, сенокосов мало, да и выделяет начальство дальние, неудобные. Так вот, отец мой привез дядю на свою лучшую поляну – большая такая, травостой густой, богатый, а сам по делам поехал, некогда ему было. Дядя и спрашивает, какую часть поляны, мол, ты мне выделишь, свояк, – неудобно же ему – на лучший свой покос привел родственник. Отец только рукой махнул: да сколько, мол, там выкосит один человек, коси пока, а я подъеду – разберемся, треть если выкосишь – и то добро будет… Вечером приезжает хозяин на поляну: что такое? – вся поляна чисто выбрита, а с дальнего конца ее бредет, шатаясь, дядя, едва волочет литовку. «Да где же это он так напиться-то успел, и кто поляну выкосил?!» – удивился отец мой. После разобрались: это дядя всю поляну и выхлестал, не смотри, что слаб еще после госпиталя, от усталости его и шатало – говорить уж не мог, только улыбался гордо, полумертвый. Ох, и жаден был до работы, ох и силен! Отец долго после, смеясь, вспоминал этот случай: допусти, мол, такого на дармовщинку! А ведь моего отца удивить было ох как непросто…
– ...Сынок, ты что ж думаешь, коль мы грамоты не знали, да и по-русски не особо говорили, – мы темные были, не понимали ничего, да? Нет, сынок, все мы понимали. Ты знаешь, как мы добились, что твоего дядю аульского не в первый же день на фронт забрали, как всех, почитай, мужиков в деревне? Ну что ж, слушай.
Военкоматская машина к нам в деревню на третий день после объявления войны приехала. Военком из района, уже смертельно усталый, запаленный немолодой офицер при двух кубарях в петлицах, и с ним два красноармейца. Велели собрать у сельсовета всех мужиков. Ну, в деревне все уже знали, конечно, что война началась, – радиоточка в сельсовете работает, и секретарь Карим по-русски разумел немножко, обошел уж на культяпке своей всю деревню в первый же день, пересказал с грехом пополам речь товарища Сталина. Деревня почитай вся на покосе была, однако быстро собрались – дурная весть скорая. Как тяжелым камнем-булыжником люди придавлены – понимали, какая беда нагрянула.
Так вот, собрались у сельсовета не только молодые мужики, которые, все понимали уж, на фронт отправятся, – вся деревня собралась. Военком привычно построил всех мужиков призывного возраста, Карим-бабай тут же суетился, сверялся со списками. Да чего там сверяться – не город, деревенька небольшая, все друг у друга на виду. Военком произвел перекличку по списку, кратко разъяснил-пересказал речь вождя, вот-вот последует команда «шагом арш!», бабы уж заголосили было…
– Ай, братья, все уходим, как же тут бабы одни, ребятишки?! – вскинулся вдруг Нурулла. Он недавно из армии вернулся, ходил в невыцветшей еще гимнастерке, щеголял в нестоптанных еще сапогах, ай, джигит-красноармеец, отслужил – гуляй смело, краса и гордость стариков-родителей, бессонные ночи девушек на выданье! Нурулла за время службы изрядно поднаторел в русской речи, переводил почти все, что говорил военком, и даже разговаривать умел так, что в райцентре некоторые чиновники его понимали.
– Верно говоришь, джигит, да что сделать-то можно?
В нестройном строю из полутора десятков мужиков и парней с котомками за плечами, – собрали заранее, все понимали уж, а как же, – в строю будущих солдат все, почитай, дядья, братья да племянники – деревня, сам знаешь, небольшая. А в сторонке – плотная кучка баб пригорюнившихся с детишками. У нас детей-то у каждого помногу, да мал мала меньше.
– Что сделаешь, что сделаешь… Без мужиков аул остается, не сдюжить бабам одним, тугандар. А сколько война протянется – кто знает, не обернемся до уборки – без хлеба семьи останутся, ай-и!
– Больно шустрый – до уборки обернуться! До зимы бы не застрять, германец-то тоже, небось, шурпу на мякину не меняет, – это мужики постарше, поопытнее, жизни повидавшие, – Как хотите, а надо хоть одному остаться, братья!
– Да как остаться?! Дезертиром объявят – и: «Турма-Сибир ходи»!
– Послушай, Нури-Ахмет, а твоя жена, моя дорогая женге, – она из раскулаченных, верно? – это Нурулла, что-то задумал джигит.
Мужики зашикали: «Цыть ты, под монастырь подведешь, здесь чужие люди, не слышал, что ли, как сейчас за такое в тюрьму сажают?!»
– Да погодите, братья, – вступил тут старший из нас, Нури-Ахмет, твой аульский дядюшка, – верно говорит братишка Нурулла, другой возможности не будет, иначе никого не оставят дома, всех сейчас забреют… Пропадут ведь семьи, братья! Эх, была – не была, рискну – давай, Нурулла, ты по-русски толмачишь, действуй, братишка!
Нурулла кивнул, посерьезнел, одернул гимнастерку, решился:
– Та-аварищ командир! Разрешите обратиться! – Это четко выговорил, заученно – недавно же из красноармейского строя.
Военком, собиравшийся было уже скомандовать отправление и укладывавший бумаги в новенькую офицерскую полевую сумку, всполошился: что такое?
– Обращайтесь, красноармеец, э-э?.
– Красноармеец Валиахметов!
– Слушаю!
– Па-ачему в нашем славном строю защитников социа… социсти… защитников нашей Родины стоит человек, женатый на дочери кулака!? Не хотим, чтобы в нашем славном строю… тута штубы стоял «щуждый элемент»! – слегка сбился в конце речи Нурулла от волнения, но все же отбарабанил задуманное.
– Ай, Нурулла, ай, молодец, джигит! Какие страшные русские слова знает! На татарский переложить возьмешься – язык сломаешь! Не переборщит ли, часом? Не навредит ли нашему брату? Эй, Нурулла, не пересоли бешбармак – будешь сытым! – шептались тревожно и восхищенно аульчане. Военком не сразу понял, обернулся даже к Карим-бабаю, испуганно и суматошно, пытаясь остановить Нуруллу, махавшему руками за спиной офицера:
– Что он говорит, уважаемый?
– Да так просто он, по дурости деревенской, не слушай его, начальник, ай-вай, не слушай, – лепетал всполошенный старик, прыгая подле военкома на своей культяпке и пытаясь отвлечь его, – сапсем дурак, ничего не понимай, слушай… –
– И верно, дурак и есть, – сплюнул военком, – подставит человека по глупости, у нас сейчас за меньшее – тюрьма. Считай, уважаемый, что я ничего не слышал, – а этого, подкулачника, вычеркни. Выйти из строя! Да побыстрей вы, эх, темнота деревенская, слава Богу, ушей здесь лишних нет, да и не понимает никто, иначе загребли бы вместе с подкулачником…
Военком отвернулся, заторопился, шепнул еще Кариму: «Да разъясни ты им, дед, чтоб язык за зубами держали, пропадете же так, простодушные!»
– Хороший, видимо, человек был военком.
– Да, хороший. И повезло нам всем тогда, что не до нас было «компетентным органам». Рисковали, конечно.
– Но как же четко, отец, вы обыграли тогдашнюю ситуацию, ту политическую истерию! Вот тебе и неграмотные аульские мужики!
– Да мы не о политике – о детях думали… К тому же, когда солдат за тыл спокоен – и воюет лучше. Нет, все мы, сынка, понимали. И ведь остался тогда хоть один настоящий мужик в деревне, дядя твой Нури-Ахмет. Да и недолгой оказалась наша «военная хитрость» – позже призвали все же и Нури-Ахмета, но это уже в 43-м, тогда полегче стало, да и мальчишки подросли, смена наша. Их и научил Нури-Ахмет и косу держать в руках, и сабаном земельку пахать, и с лошадьми, со скотом управляться, – всему нехитрому, но и непростому труду крестьянскому научил. Потому в нашем ауле и выжили, почитай, все детишки, и хозяйства удалось сохранить бабам… Ведь тогда, в годы войны, весь урожай, все подчистую забирали в колхозе – «все для фронта, все для победы!» А в нашем ауле даже несколько коров сохранить удалось, – не всех перевели в войну. В соседних-то деревнях, без мужиков оставшихся, – совсем беда, однако!
– А я помню, как в 46-м приезжал он к нам в аул, – это племянник отца, постарше нас намного, делится воспоминаниями, – еще от ран не оправился, худущий, гимнастерка и галифе болтаются, как старый чапан на огородном пугале, – а веселый, взбудораженный, – сам, видно, еще не мог поверить, что вернулся.
Долго разговаривали, всю ночь пили дядя с моим отцом бражку и разговаривали. А то начинали петь, – ох, как они пели! – и «Сары, сары, сап-сары» пели, и «Сандугач», и еще много песен народных старинных, а за стенкой мама и ее младшие сестры, тетки мои, то плакали, то молились. И чего реветь – вот же они – и отец, и дядя, – живы-здоровы, сидят, поют, смеются… Наутро, прощаясь, отец настоял, чтобы дядя забрал телочку, – у нашей коровы хорошая телочка подросла, а семья дяди жила уже тогда подле города, хозяйства не имела. «Не возьму, бажа, царский подарок, не могу», – твердил растерянно дядя. «Тебе детей кормить!» Меня и послали тогда проводить дядю с телушкой – дядя-то слаб еще, а телушка все упиралась, артачилась, будто понимала, что навсегда из дома уходит. Идти далеко – два десятка верст, не было тогда и в помине машин-скотовозок, а дядя идет-идет, да закашляется жутко, и плюет кровью, и все твердит: «Ничего, балам, ничего, теперь заживе-ем!»… Откашляется – и дальше бредем, – вдоль железной дороги, потом лесом, потом полями. Телушка, видимо, смирилась, идет послушно, мне и погонять ее не приходится. Как сейчас помню – солнце наяривает, бабочки летают, птички поют, кузнечики стрекочут – хорошо! И дядя, отдышавшись после кашля, еще держась за меня, все шептал: «Хорошо, балам! Хорошо в наших краях, а? И как же мы могли бы такую землю врагу отдать?! И-и, алла!» Так и запомнилось мне, несмышленышу, то лето – солнцем, зеленью, красотой краев наших, и – тем, что стучало так сильно, неровно под застиранной гимнастеркой в груди дяди, когда он, чуть не падая от слабости, повисал почти на моих мальчишечьих плечах…
– Да-да, отец наш часто поминал ту телушку-спасительницу, тот царский подарок своего свояка, она через годик стала славной коровой, всех нас выпоила молоком, – отец так и звал ее – «Бажа-буляк», – подарок свояка, царский подарок…
– Да-а, в те годы послевоенной разрухи такой подарок – это жизнь…
…Палатка. Гордость наша с братовьями. Офицерская плащ-палатка, что привез батя с войны – мы с братьями все в ней по очереди в войнушку играли. Бывало, и забывали ее под открытым небом вплоть до следующей игры, а ей все нипочем было, никакие дожди-непогоды палатку не могли испортить, – и что это за материал такой был? А в «мирное» время мы в ней от дождя прятались, когда наша очередь была скот пасти. Куда она делась после – не вспомнить уж. Жалко.
А медали и ордена? Мы ими с братьями частенько «награждали» друг друга при игре в войнушку, и отец не возражал. Так и потеряли большинство медалей, похоже. И почему отец разрешал нам играть наградами, дети же – непременно растеряют? – Непонятно. Но что не от пренебрежения – это точно. Теперь спросить не у кого, а тогда мы и не спрашивали. Или не отвечал отец – не помню. Один раз только, помнится, обмолвился: «Медали эти больше не я заслужил, а те солдаты наши, что в земле лежат. Потеряете – в землю медали и вернутся». Да разве мы тогда прислушивались, спеша усвистать скорей на улицу и хвастать там солдатской славой на зависть ребятам!..
– Отец, расскажи о войне! – бывало, просили мы в детстве. И притихнем, приготовившись слушать о жестоких боях, о подвигах, о разведке и поимке «языка». Отец, кажется, соглашается наконец:
– Ползком, по-пластунски, тихонько пробираюсь мимо часового, ни в коем случае, приказано, нельзя себя обнаруживать… – Затаив дыхание, слушаем. Но оказывается, в итоге, что проползал батя мимо своего же ротного дневального, – чтобы в самоволку сбежать. А вся героическая операция – поход тайный в город, где подрядился он починить печь майору-интенданту. Мастеровитый, привычный к любой работе, переложил печку за ночь, и вот возвращается таким же макаром мимо часового, но не с «языком», а с двумя буханками хлеба и шматом сала для оголодавшего на скудном тыловом пайке отделения – отведена часть в тыл для пополнения после кровопролитных боев.
– Ну что, чем вам не подвиг фронтовой, а, бойцы? – хитро смотрит смеющимся глазом на наши вытянутые от разочарования рожицы, – ну какой же это подвиг – починка печи, опять посмеялся папка… Яма углубилась уже настолько, что появился слой камней и щебня, лопатами не взять. Вот тут-то и пригодился кетмень – тяжелый острый металлический заступ на длинной, метра четыре, металлической же рукоятке. Внизу, подле острия, имелись поручни, держа их, спустившийся в яму землекоп направлял заступ, которым с силой долбили землю два-три стоявших на поверхности мужика. В яму спрыгнул сам мулла – молодой сравнительно белобородый дядька, которого язык не повернется еще назвать аксакалом. Пока яма была неглубока, лопаты ему не досталось, и он разминался и согревался подле могилы, толкаясь и сдержанно дурачась с другим таким же молодым стариком, непосредственно радуясь хорошему кровообращению: «Ну, хочешь, дам леща – устоишь, а? Хочешь?» – шутливо грозился моложавый мулла-аксакал, на каковое предложение его приятель не рискнул согласиться… И отчего-то эта сдержанная жизнерадостность на краю могилы не казалась неуместной, наоборот, мужики тоже слегка оживились, заулыбались, стали вспоминать все какие-то смешные случаи с участием покойного, причем поминался ими покойный легко, беспечно, словно живой он, отлучился только недавно, недалеко и ненадолго – отлучился ненадолго и скоро вернется, подтвердит все о нем сказанное и вместе со всеми улыбнется забавным тем байкам…
– А помните, в 70-м, на День Победы разгулялись наши ветераны, а? Так нагулялись, что, возвращаясь, уснули ага с другом своим, тоже фронтовиком, уснули на полянке, не добрались до дому – штормило их. А парни шли мимо и переложили их аккуратненько, уважительно так переложили в тенечек, чтоб головки не напекло майским солнышком, да еще, охальники, медали-то не поленились – с груди им на штаны перецепили, юмористы, ядрена вошь!
– И-и, не говори, брат, – смеху наутро было, когда заявились домой, звеня медалями!
– Да, тут-то смех, а вот в «Новостях» передавали – убили подростки ветерана в городе и ордена его все украли на продажу… Во фашисты, гады!
– Эх, не говори, сосед, что с людьми творится – ничего святого…
Помолчали, поугрюмели. Некоторое время слышно только надсадное хеканье взмахивающих кетменем да шуршание выбрасываемой наружу земли. Задумались каждый будто о своем.
– Отец, а почему в детстве, когда мы просили рассказать о войне – ты все вспоминал какие-то курьезные, смешные случаи, а всерьез ничего не рассказывал?
– Да особо нечего было рассказывать. Война – она в кино красиво, интересно смотрится. А там, на фронте, – одна, почитай, работа надсадная. Землицы родимой сколько перерыли – и-и, алла! А бои? Были и бои, и атаки были, – да там, в атаке, себя не помнишь – бежишь да стреляешь. Потому что знаешь – надо! А выжить я и не надеялся, может, потому и жив. Выполняй приказ, сжав зубы – и будь что будет. А те, кто выжить стремился, те первыми и погибали. И о подвигах как-то не думалось – какие подвиги, кому как уж повезет, после боя и не вспомнить толком ничего. Жить хотелось, конечно, – молодые же мы были, – но тут уж кому какая карта ляжет…
– А красивый все же памятник выделил военкомат, верно, брат?
– Да, красивый. Военком по моей просьбе распорядился выгравировать и полумесяц. Хороший человек.
Военком еще молодой, на майорском кителе – ордена не той, отгремевшей, – другая война ему досталась и напоминает о себе скрипом почти незаметного глазу протеза, пошутил не очень весело:
– Экий хитрый, однако, татарин – вон, даже на памятнике – и луна ему, и звезда – целый небосвод…
Под луной и звездой на памятнике, сером гранитном камне, – лишь имя-фамилия, даты жизни и простая, строгая надпись: «Защитнику Отечества». Последний рубеж солдата, – под своим личным и нашим общим небосводом.
Кладбище у нас на высоком речном берегу, подле соснового бора. На этом берегу – бор, а на другом, тоже крутом, высоком – березы, вблизи берега – поодиночке и группками, милые, а дальше – сплошным частоколом белоногим. Как по весне нежно шумят молодой листвой, жарким летом – тень, прохладу дарят, а осенью – как буйно горят осенью золотом червоным березы! На самом взгорке, отдельно – пара растущих рядышком, они все в одном возрасте – не старятся, уж полвека за ними наблюдаю – все те же, во всесильной своей зрелой поре, родимые, – одномоментно вспыхивают по осени, разом – салютуя обелискам на другом берегу. Меж скалистых берегов – речушка, небыстрая, неприметная, журчит хлопотливо, в свой срок подо льдом замирает, вовремя же бушует половодьем, – обыкновенная, каких у нас не счесть, речушка. Пусть вечно смотрятся в нее памятники на крутом берегу, неотделимые от неба, солнца и звезд, частью бессмертия ставшие...
– А так ли прожил, отец, как мечталось? Удовлетворен ли ты? –
– Да о чем, улым, крестьянину мечтать? Придет весна – сеять нужно, поспеет урожай – убирать. Да детей, вас вот, вырастить. Людьми вырастить. Нет, сынок, мне обижаться не на что – жизнь прожил я счастливую, хотя, наверное, и трудную, – ну, да всем нам трудное время досталось. А после войны, однако, и бахыт – благоденствие видели. Да и не в благополучии смысл, сынок…
- А в чем же, отец?
– Ну вот, ты книг-то вон сколь прочел, – не враз и пойму я твои слова мудреные, – а меня, малограмотного, спрашиваешь. Подумать мне нужно. Наверное, смысл в том, чтоб жить в согласии с самим собой, жизнью своей родины жить…
…Не прощу себе, что в последний день, когда отец попытался сказать мне свое напутственное слово, над которым долго думал, сказать что-то очень важное, жизненно важное, что-то определяющее, передать мне знание, которое дается людям только как результат долгой и многотрудной жизни, то самое Знание, до которого мне ни за что не дойти своим умом, – в тот краткий час временного облегчения, обманутый относительно здоровым видом прежде тяжело больного старика, я не был внимательнее, – заболтал, затушевал, затуманил ненужным бодрячеством: «Да ты у меня совсем джигит сегодня!», или: «Мы, отец, еще повоюем!» и тому подобными, приличествующими, казалось, у постели умирающего оптимистическими благоглупостями отвлек, утомил отца, намеревавшегося озвучить для меня, в сущности, свое духовное завещание… Отец слабо махнул рукой, затих, – уснул, кажется, а я отправился по делам. В тот день отца не стало. Думай теперь, что хотел сказать он в последнюю минуту, думай, бодрячок этакий…
На мусульманских похоронах женщины непосредственно на кладбище не присутствуют, – может, и к лучшему – без лишних слез обходится. Как в песне поется: «На братских могилах нет плачущих вдов…» Оттого и происходит все гораздо сдержанней. Мулла с помощником своим посерьезнели, прочли полагающиеся молитвы – древние, как мир, на древнем непонятном языке полились тягучие песнопения, освященные веками слова пронизывали прохладный воздух весеннего утра. Внимали все присутствующие, соединив перед лицом ладони, и завораживающие формулы молитвы будили в каждом нечеткие величественные образы прощания. Прощай, солдат.
…Ночи стоят ныне холодные, кристалльные, как и той памятной весною. Выйду за калитку – постоять под высоким небом, усеянным звездами, сияющими об эту пору особенно ярко, отчетливо; голубым своим сиянием освещают совместно с наливающимся неудержимо луненком –полумесяцем притихшую деревню спящую, дома с низко нахлобученными крышами, голые, без куржака-инея и без листьев еще деревья и кусты. Тихо в мире, трепетно. Я один стою, кажется, – один во всем ночном тишайшем благословенном мире стою, запрокинув лицо в небо; один, но не одинок, – потому что здесь они – незримо, но надежно, нерасторжимо и слитно, по-солдатски – отец, дядя Шамиль с зайчонком, уснувшим на руках, соседи и друзья отца – фронтовики, все сплошь молодые, навечно молодые – неразличимо уже, смутно угадываются стройные их шеренги, не нам, не себе – вечности принадлежащие.
Лента новостей
-
Представителей Кубани приглашают принять участие в VII федеральном форуме «Производительность 360»
-
Работникам коммунальных служб Динского района помогают экономить время и ресурсы бережливые технологии
-
Павловский сахарный завод делает ставку на бережливые технологии
-
Флагман российского виноделия совершенствует производственные процессы
-
Депутат Госдумы Алексей Ткачев: Благоустройство общественных территорий улучшает качество жизни и бюджеты кубанских поселений
-
Легенды настольного тенниса в Кореновском районе
-
Разнообразие видов спорта
-
Безопасных доз алкоголя не существует
-
Интеллект для ремонта турбин
-
Алексей Ткачев: Улучшая свои жилищные условия семья с детьми не должна опасаться своей финансовой несостоятельности